Есть люди, которые всю жизнь живут в центре обжитого, понятного мира. А есть те, кто выбрал своей профессией пограничную службу. Только граница эта проходит не по земле, а по самой кромке жизни. Там, где один неверный шаг, один сбой в аппаратуре, одна минута промедления — и человек делает шаг в ту сторону, откуда не возвращаются.
Врач-реаниматолог — одна из таких «пограничных» профессий. А если этот врач еще и монах?
Слушая иеродиакона Феодорита (Сеньчукова), я все время пытался представить эту картину. Вот он, только что откачивавший пациента после страшной аварии, снимает куртку «скорой помощи», а под ней — подрясник. И руки, которые только что сжимали дефибриллятор, берут в руки четки. Это не раздвоение. Поразительно, но в его рассказе эти два мира — мир предельного материализма, где все решают миллилитры адреналина и показатели на мониторе, и мир духа — сливаются в одно целое. В одну пронзительную правду о человеке.
Скальпель и крест
Отец Феодорит говорит о своей работе без всякого пафоса, с какой-то спокойной усталостью профессионала. Реаниматология, по его словам, — самая интересная специальность, если не считать психиатрию и патанатомию. Смысл — в прогнозировании, в том, чтобы обмануть худший сценарий, отвоевать у смерти еще немного времени для человека.
И именно здесь, в этой ежедневной борьбе за чужое дыхание, за чужой пульс, и рождается самое трезвое понимание. «Как на фронте атеистов не бывает, так атеисты крайне редко встречаются и в медицине», — говорит он. Богопротивники — да, бывают. Те, кто спорит с Богом, кто кричит Ему в лицо свой протест, как Маяковский. А вот тех, кто по-настоящему верит в то, что за всем этим хаосом страдания и спасения нет ничего — таких почти нет.
Потому что в какой-то момент ты упираешься в стену. В предел человеческих возможностей. И задаешь себе простой вопрос.
А зачем все это?
«Жизнь человеческая не может существовать без цели, — делится отец Феодорит. — Если жизнь бесцельна, то и медицина не нужна в принципе: какая разница, умрешь ты сейчас или через десять лет, если все равно тебя не станет?»
Эта мысль, острая, как ланцет, и стала для него самого точкой входа в веру. Осознанием, что смысл жизни не может быть объяснен из самой жизни. Что должна быть система координат за пределами нашего хрупкого, конечного существования. Иначе спасать человека, который после реанимации станет глубоким инвалидом, — бессмысленно с точки зрения «строительства социализма» или любой другой материалистической доктрины. Но бесконечно осмысленно, если верить, что спасаешь не просто тело, а бессмертную душу, которой дан еще один шанс.
Тридцать минут до вечности
Отношение к смерти у него, конечно, другое. Более трезвое. Рабочее. Нет священного ужаса. Есть задача: продлить жизнь. «Умер человек — помяну его потом», — просто говорит он. И в этой простоте больше любви, чем в громких рыданиях.
Но тайна никуда не уходит.
Он рассказывает историю ухода своей бабушки. Она была уже без сознания. И вдруг, в последние мгновения, подняла руку и сделала совершенно ясный жест: «Всё». После этого — ни один реанимационный метод не сработал. Сердце не запустилось. Словно была пройдена некая невидимая черта.
Мы не всегда ее видим. И потому врач должен бороться до конца, быть инструментом в руках Бога. Даже когда кажется, что все напрасно. В медицине есть формальный критерий — 30 минут безуспешной реанимации. Тридцать минут, за которые решается вопрос вечности. А что там, за этой чертой? Что происходит с душой?
Отец Феодорит отмахивается от околомедицинских баек про «взвешивание души». Но и не принимает чисто физиологическое объяснение предсмертных видений — тоннеля, света, фигур. Академик Неговский говорил, что это просто «трубчатое зрение» из-за отмирания коры мозга. Но почему тогда люди разных культур видят так похоже?
Наука на эти вопросы не отвечает. Она их просто не рассматривает. Она работает с телом. С сознанием, которое напрямую зависит от мозга. Но душа и сознание — не одно и то же.
«Жизнь духа вне сознания — есть», — убежденно говорит он. И рассказывает, как гонял молодых врачей, которые позволяли себе в присутствии больного в коме говорить: «А, этот умрет». Потому что есть множество свидетельств, что люди в коме слышат. И душа их — слышит. Она не меняется от того, что поврежден мозг. Она страдает, или молится, или боится. Она — живет.
Когда приходят они
И здесь разговор касается самого страшного. Того, о чем не принято говорить в приличном обществе, от чего отмахиваются, как от бреда — делирия, галлюцинаций.
Видений бесов.
Он рассказывает об этом буднично, как о части своей работы. Как взрослые пациенты иногда начинают в ужасе метаться, видеть что-то, что не видим мы. Но особенно врезается в память история про пациента из «Кащенко». Человек без сознания, на аппарате ИВЛ. И вдруг он открывает глаза, фокусирует взгляд не на врачах, а куда-то в пространство, и на его лице отражается такой неподдельный ужас… При том, что сознания — в медицинском смысле — у него не было.
«Мое глубокое убеждение, что никаких галлюцинаторных расстройств такого типа нет, а есть именно контакт с этими инфернальными существами», — говорит он.
От этих слов становится холодно. Мы не знаем, кто и за что приходит. Но то, что эта реальность существует, для него, врача-реаниматолога, — несомненный факт.
А вот дети, говорит он, этого не видят. Умирая, ребенок не боится бесов. Его не тяготит груз греха. Он боится другого — неизвестности, расставания. И в отличие от взрослых, которые до последнего цепляются за надежду, ребенок, который уходит, все понимает. Он не обманывает себя. Он просто не может представить — как это, я есть, но меня не будет…
Пасха
Смерть противоестественна. Это следствие грехопадения. Отец Феодорит не принимает ее, не смиряется с ней. Именно поэтому, наверное, он и стал реаниматологом.
Но в нашем падшем мире даже у этой трагедии есть свой горький смысл — она пресекает эскалацию зла. И страдания, которые предшествуют ей, могут стать дорогой ко Христу.
Православный человек просит о кончине «безболезненной, мирной, непостыдной». И по опыту отца Феодорита, эта безболезненность — она в первую очередь духовная. Человек, проживший праведную жизнь, часто так и уходит — мирно, тихо. А если и страдает, то воспринимает это не как бессмысленную пытку, а как свои мытарства здесь. Как возможность пострадать со Христом.
Заканчивается наш разговор историей, которая, кажется, вмещает в себя всё.
Прошлая Пасха. Храм. Начинается полунощница. Его, как врача, зовут из алтаря — плохо стало прихожанке, благочестивой старушке. Она только что приложилась к Плащанице, сделала поклон — и упала. Он прибежал со своим реанимационным набором, они боролись за нее. Но вернуть ее не удалось.
«Опять же, мы не знаем, почему ей Господь дал такую смерть, — говорит он тихо. — Но зная ее жизнь, мы можем предположить, что Пасху она встречает уже там…»
И в этих словах нет трагедии. Только тихий свет и тайна. Тайна перехода, который для кого-то становится ужасом, а для кого-то — встречей. И человек, который каждый день стоит на этой границе, помогает нам не столько понять ее, сколько поверить. Поверить в то, что даже когда медицина бессильна, Любовь — никогда.



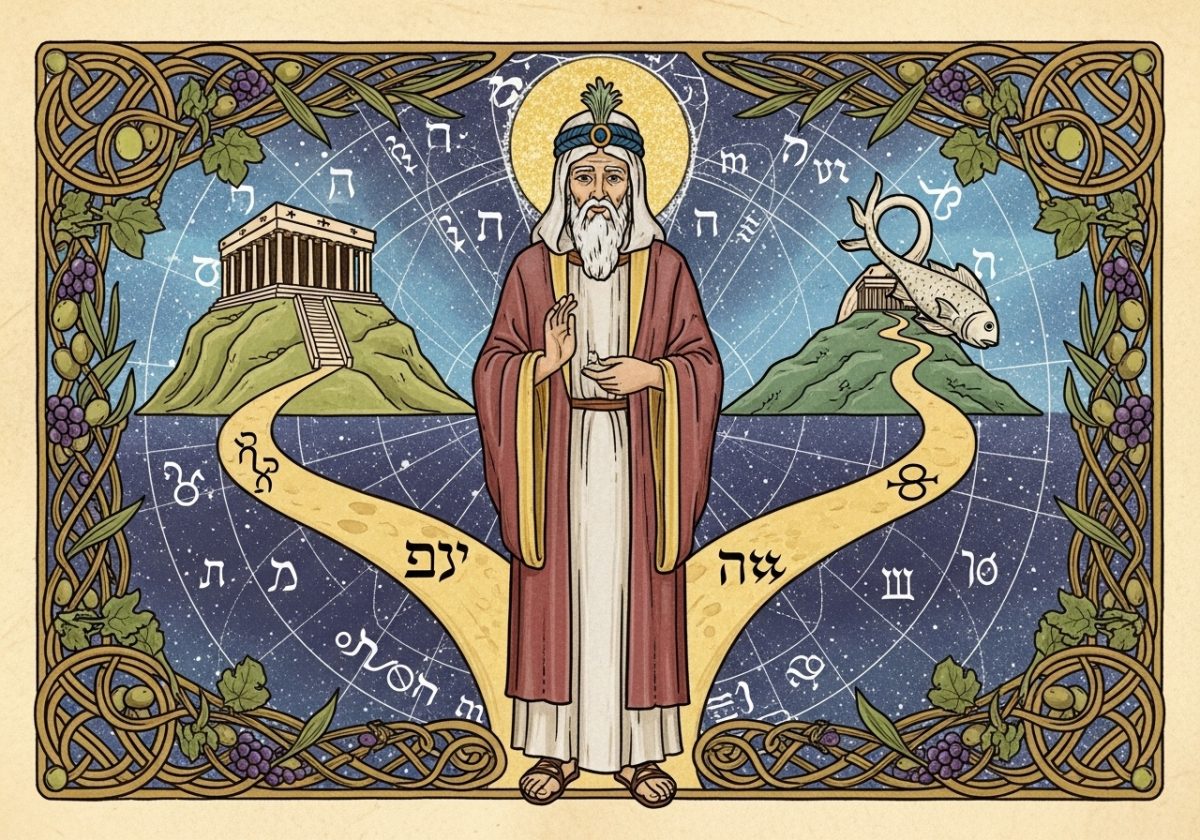

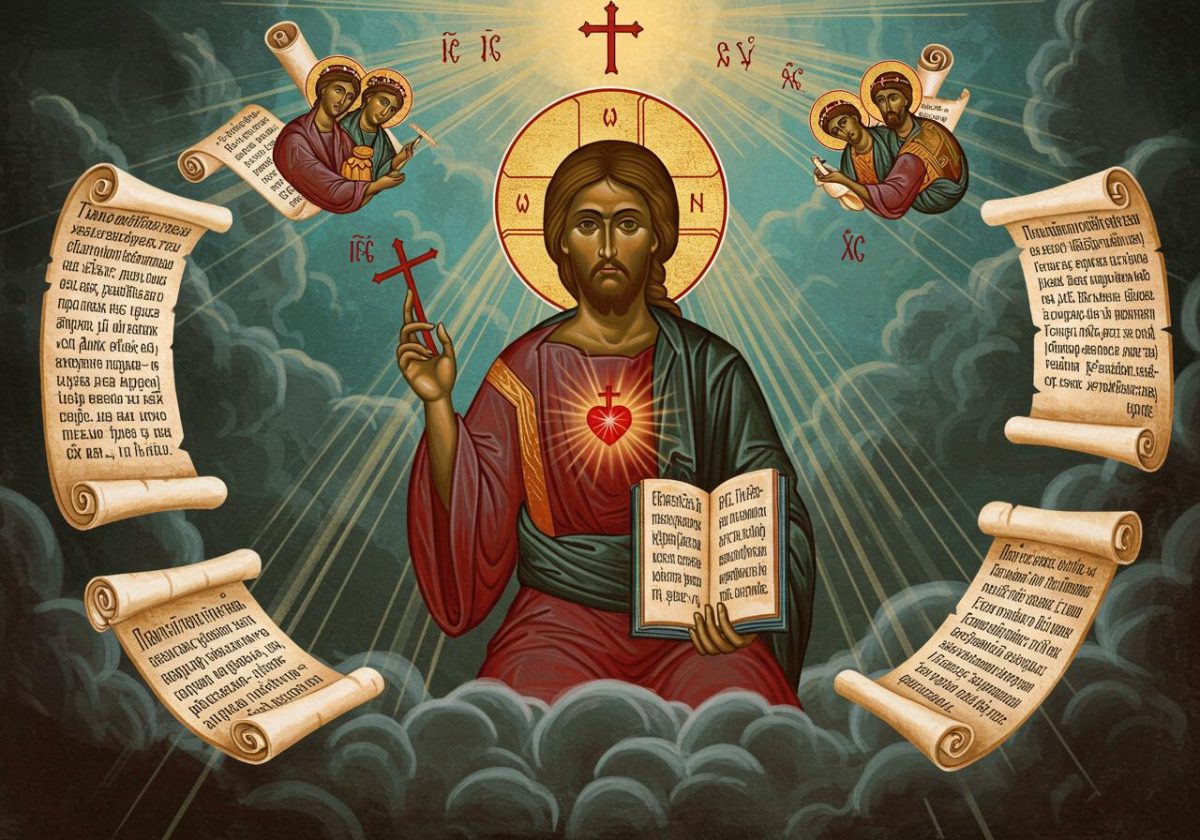

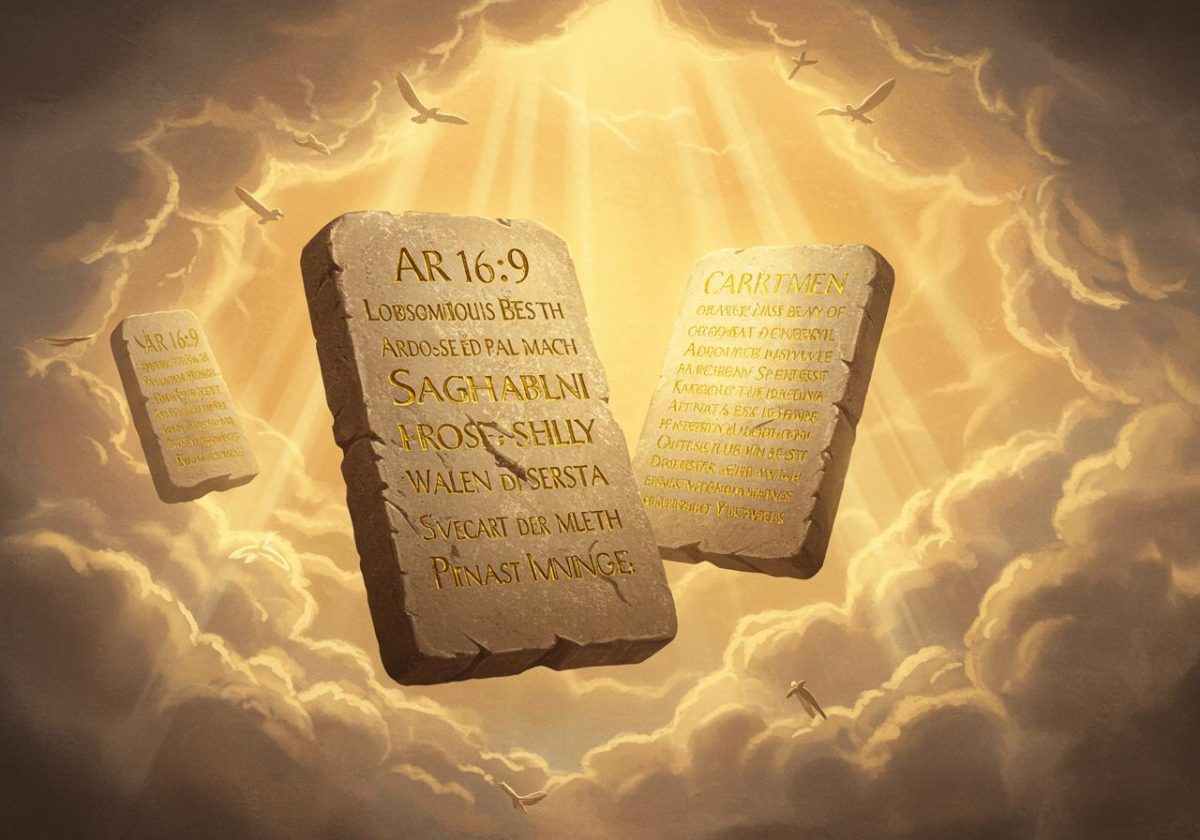
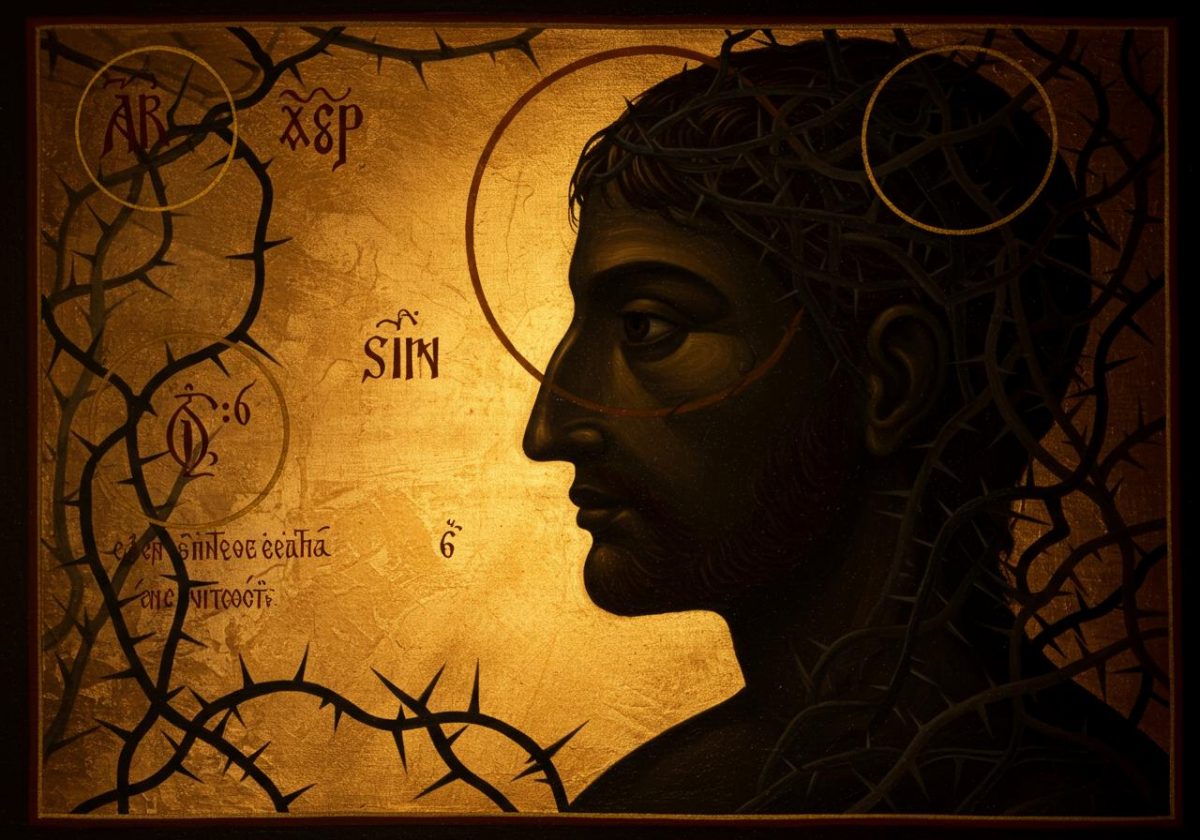
А ты что думаешь?
Будем рады вашему мнению. Оставьте комментарий.