Все эти разговоры о мистике в русской литературе часто сводятся к одному — нянюшка Пушкина, украинские сказки Гоголя. Мол, наслушались в детстве страшных историй, вот и писали. Это объяснение простое, удобное, но совершенно неверное. Оно упускает главное. Классиков интересовали не мертвецы как таковые. Их интересовали живые, которые уже были мертвы внутри.
Они видели вокруг себя людей-функции, людей-страсти, людей-пустышек и пытались нащупать, где именно в человеке обрывается та нить, которая и делает его живым. А мистика, вся эта чертовщина, была просто самым подходящим языком для описания этой внутренней смерти. Самым честным.
Бобок Достоевского
Давайте начнем с самого жуткого. Не с «Преступления и наказания», а с короткого рассказа «Бобок». Сюжет простой: литератор случайно засыпает на кладбище и начинает слышать, как разговаривают свежие покойники. И вот тут начинается настоящий кошмар. Они не каются в грехах, не рассуждают о вечном. Они сплетничают, хвастаются подлостями и решают «обнажиться», то есть окончательно отбросить всякий стыд.
И среди всего этого бормотания постоянно слышится одно слово — «бобок». Оно ничего не значит. Это просто звук. Возможно, звук последнего пузырька воздуха, выходящего из разлагающегося тела. Это звук, который издает жизнь, окончательно превращаясь в материю, в ничто. И Достоевский говорит нам: этот «бобок» начинается задолго до смерти. Он звучит в пустых светских разговорах, в бессмысленной погоне за чинами, в жизни, где нет ничего, кроме животного желания. Мертвецы в его рассказе страшны не тем, что они мертвы, а тем, что они ничем не отличаются от многих живых.
Шепот неизведанного
Гоголь эту тему чувствовал, кажется, на физическом уровне. У него граница между миром живых и миром мертвых вообще почти не видна. Кто страшнее: ведьма-панночка или чиновники, которые своей бездушной рутиной могут довести человека до безумия? Его нечисть — это не фольклор. Это концентрированная пошлость и пустота, которая вдруг обрела рога и хвост.
Самый яркий пример — Чичиков. Он ведь не просто мошенник. Он торговец небытием. Он скупает то, чего нет, — мертвые души, — чтобы построить из этого свой капитал. А продавцы? Собакевичи, Коробочки, Плюшкины. Разве они живые? Один превратился в желудок, другая — в комод с барахлом, третий — в дыру на человечестве. Их души давно умерли, а тела продолжают по инерции скрипеть, есть и копить. Гоголь доводит этот абсурд до предела, и становится не смешно, а страшно. Потому что в этом кривом зеркале слишком легко узнать знакомые черты.
Пиковая дама
А вот Пушкин показал самый элегантный, самый «приличный» вариант духовной смерти. В «Пиковой даме» нет гоголевской грязи или достоевской жути. Все происходит в блеске аристократических салонов. Германн — не злодей. Он расчетливый, амбициозный молодой человек. Но его амбиция — это программа, которая постепенно стирает в нем все остальное.
В его голове остается только одна формула: тройка, семерка, туз. Он сам превращается в ходячий механизм для выигрыша. И призрак старой графини, который ему является, — это не столько гость с того света, сколько сбой в его собственной системе, галлюцинация его одержимости. Германн умирает задолго до того, как попадает в Обуховскую больницу. Он умирает в тот момент, когда ставит на кон не деньги, а самого себя. И проигрывает. Пушкин показал, что можно быть мертвецом, даже нося идеально сшитый фрак и сохраняя безупречные манеры.
Так что, когда в следующий раз будете читать классиков, ищите мертвецов не в гробах. Они ходят по страницам, заключают сделки, играют в карты и сидят в департаментах. И они, пожалуй, страшнее любых призраков. Потому что призраками не становятся.






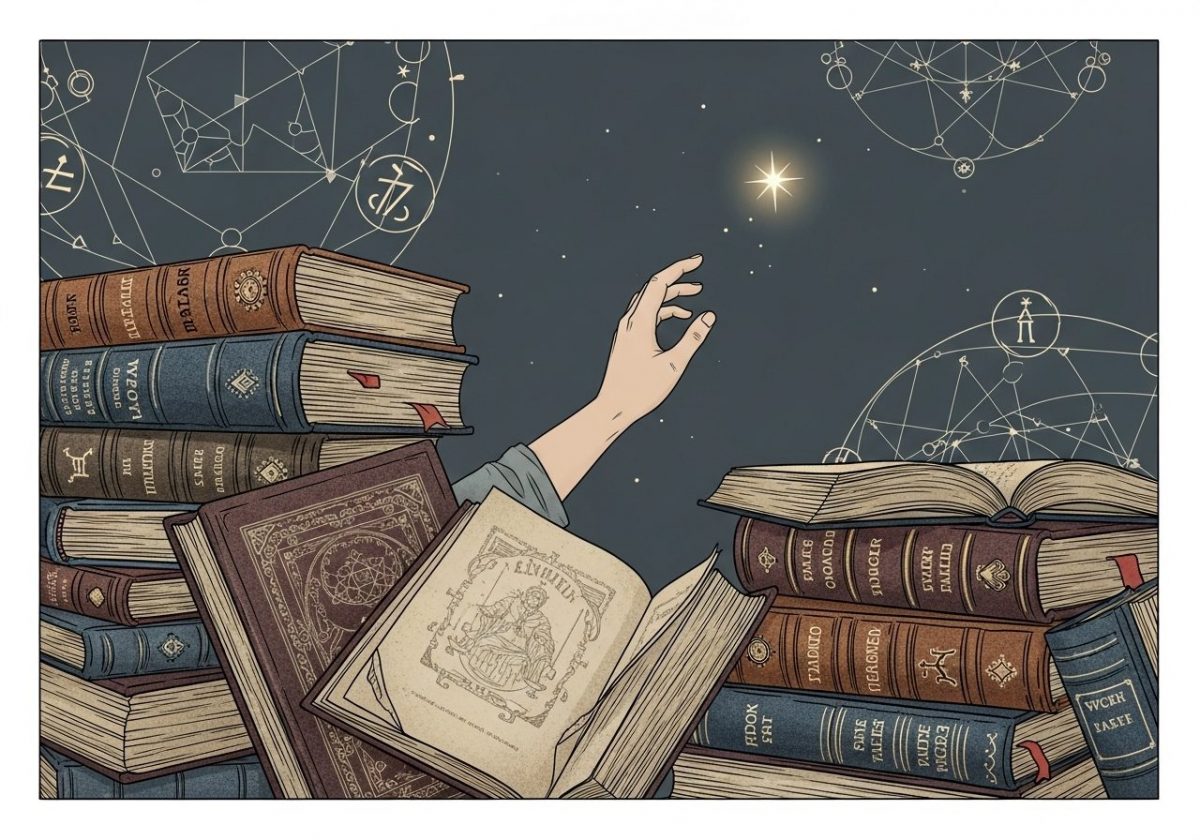


А ты что думаешь?
Будем рады вашему мнению. Оставьте комментарий.